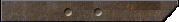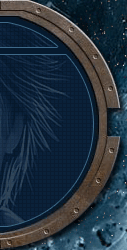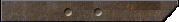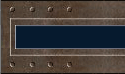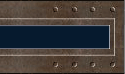Д.О.Святский. Календарь наших предков.
В 1700 г., как известно, Петр Великий решил для однообразия с западной Европой перенести начало нового года с 1 сентября на 1 января. «Лета от сотворения мира 7208, октоврия в 20 день царь о праздновании Новаго Года указал, что ныне от Рождества Христова доходит 1699 г., а будущаго января с 1 числа настанет новый 1700 г. и для того впредь в приказах и во всех мирских делах и крепостях лета писать и числить годы генваря с 1 числа от Р. X. 1700 года». Так совершилась реформа нашего летосчисления. Некоторые наши историки полагают, что была другая календарная реформа, установившая новый год с 1 сентября и отменившая старинный обычай начинать его с 1 марта, существовавший на Руси с древнейших времен; при этом. реформу эту одни относят к середине XIV в., другие к концу XV в.
Татищев в своей «Истории Российской» приводит свидетельство якобы из летописи, относимое им к 1347 г.: «Феогност име собор о делах духовных ко исправлению монастырскаго служения и уставиша начало года от сентября 1 числа и списавше список посла князь великий со архимандритом Рождественским в Царьград к патриарху о благословении прося» (IV, 163). Также и в другом месте: «в 1347 при митрополите Феогносте прение о начале года приключившееся на соборе в Москве решено и положено /283/ как церковный, так гражданский год сентября от 1 числа». (1, 67). Карамзин в своей «Истории Государства Российскаго» считал эти указания выдумкой Татищева и ссылался на Новгородскую летопись, где под 1347 г. в действительности сказано глухо: «Князь великий Семен и митрополит послаша во Царьград о благословении». С Карамзиным согласен и новейший историк Е. Голубинский («История Русской Церкви» II, I-я пол. стр. 161 и прим.). Всем, имевшим дело с историей Татищева, хорошо известно, что он иногда фантазировал и добавлял текст летописей своими измышлениями (сравн. наприм., «Астрон. Явл. в русск. лет.» Д. Святского стр. 26 и 63). Но даже если и допустить, что Татищев цитирует текст летописи до нас недошедший, и что перевод мартовского на сентябрьский стиль действительно был произведен в 1347 г., или позднее — в правление Василия Дмитриевича, около 1425 г., как думает это Карамзин (V, стр. 137 и прим. 246), то реформа эта осталась только на бумаге, свидетельством чему могут служить наши летописи — внимательный анализ их с хронологической точки зрения показывает, что как сентябрьский стиль, так и мартовский, встречаются в них задолго до 1347 и после 1425 г.
Карамзин и сам, по-видимому, не был уверен, что реформа около 1425 г. была окончательной, п. ч. рассказав о соборе 1492 г., неожиданно прибавляет: «сей собор утвердил, что год начинается в России вместе с индиктом 1 сентября» (VI, стр. 222). Этим прибавлением он смутил митр. Макария, который в своей «Истории Церкви» замечает: «не понимаем, каким образом из этих выражений летописца (т. е. из текста летописи о соборе) Карамзин мог вывести заключение, будто настоящий собор утвердил у нас счисление года с сентября месяца, начавшееся у нас, по словам того же историка, еще в княжение Василия Дмитриевича (1383—1425;». (Макарий VI, стр. 101 прим. 140).
О самом соборе 1492 г. следует заметить, что он имел целью разрешить вопрос о продлении пасхалии на восьмую тысячу лет. Дело в том, что с истечением 6999 г. от С. М. в России суеверные люди ждали светопреставления и потому в тогдашних пасхалиях исчисления доводились лишь до этого критического года. Дальше заниматься исчислениями, по верованиям наших предков, не было никакого смысла, т. к. мир наш должен был «преставиться». Но наступил 7000 г. от С. М. — земля осталась целой и невредимой, небесный свод не поколебался, ужасный звук трубы архангела не раздался в поднебесной, жизнь шла своим чередом и заставляла позаботиться о продолжении пасхалии, определявшей собою весь церковный круг переходящих праздников и постов — /284/ и вот, как повествует летописец, «в лето 7000, сиречь начало осмыя тысящи, месяца сентября, повелением великаго князя Ивана Васильевича всея Русии, того ради снидошася на собор (следует перечисление участников собора) и начаша св. Миротворный круг». Из этого свидетельства летописи, действительно, не видно, чтобы собор занимался реформой календаря с мартовского стиля на сентябрьский. А постановление собора «написати пасхалию на осмую тысящу лет» определяет достаточно ясно предмет его занятий, вызываемый злобой дня. «Паскалия», действительно, была составлена самим митрополитом Зосимою на 20 лет и представлена собору 27 ноября 1492 г. При этом любопытно заметить, что Зосима не доверял вполне своим исчислениям и просил сделать их также епископов Филофея и Геннадия, независимо от него. Филофей Пермский исчислил пасхалию на 19 лет и Геннадий Новгородский — на 70 лет, причем в исчислениях этих, произведенных в три руки, оказалось полное согласие. В наше время покойный Н. В. Степанов, занимавшийся вопросом хронологии и летосчисления наших древнерусских памятников и главным образом летописей, также думал, что собор 1492 г. занимался реформой летосчисления. Он говорит: «В 6999 мартовском году при Иване III гражданское времясчисление церковными мартовскими годами реформировано на гражданское времясчисление церковными сентябрьскими годами; 1 сентября 7000 церковного года, когда 6999 мартовский церковный год, не обрываясь, вступил в свой седьмой месяц, оборвался шестимесячный гражданский мартовский год, и наступило новогодие 7000 гражданского сентябрьского года. Интересно было бы знать, чем руководился Иван III, вводя свою календарную реформу именно в 7000 г. Руководился ли он только потребностью официально объединить счет времени в объединенной Руси, или сюда входили соображения другого порядка... Не руководился ли Иван III желанием ускорить наступление «опасного» 7000 г., чтобы разрушить суеверный страх своих современников? Не внушил ли он этой мысли церковному собору, на котором была санкционирована его календарная реформа? («Изв. Отд. Русск. Яз. и Слов. Акад. Наук» 1908, XIII кн. 2 стр. 92).
Однако догадка эта очень остроумная остается все же догадкой, а из текста летописи ровно ничего не видно, как это заметил еще митрополит Макарий в своей «Истории Церкви», чтобы реформа в действительности была провозглашена на соборе 1492 г. Нам кажется, что вообще никакой подобной реформы на Руси не было, и мартовский стиль существовал наряду с сентябрьским, причем первый—в гражданской практике, второй — в церковной. Так как /285/ почти все наши книжники были в то время и церковными ЛЮДЫ?ИИ, то они употребляли в своей практике и тот и другой стиль. Но, несомненно одно, что мартовский стиль был национально-русским, сентябрьский же — новшество, занесенное греками из Византии, на которое наши предки долго смотрели косо, как это видно, например, из замечания в харатейном монастырском уставе Новгородского Софийского собора XII в.: «начаток же сущих книг в первыя сентября месяца есть, в тот бо день начаток всего лета многих ради вин Греком мнится». И только в XIV—XV вв. наши предки приобвыкли к сентябрьскому стилю, окрестили св. Симеона, воспоминаемаго 1-го сентября, «Летопроводцем» и более или менее сроднились с византийским новолетием, перешедшим из сферы церковной жизни в гражданскую.
II
Но что же представлял из себя древнерусский мартовский стиль? Действительно ли год начинался в день св. Евдокии 1 марта? Еще Татищев в своей «Истории Российской» по этому поводу писал: «начало года у нас сперва счислялось от весны, и суще мню согласно с оставшими в идолопоклонстве Сарматы от новолуния по равноденствии, как до днесь Вотяки, Вогуличи, Черемиса и прочая, или по сшествии снега в неверных пределах в первое новолуние сходясь молятся и торжествуют... историки более древнее начало с весны употребляли; как у Нестора и последователей его видно от дня Пасхи год начинали: и хотя они точно о начале года не поминают, но как они в сказаниях не токмо числа месяцов, но дни седмичные и святых упоминают, то оное начало достаточно видимо»... (1,67). Из этого отрывка видно, что по мнению Татищева год у наших летописцев начинался вместе с Пасхой и, следовательно, новолетие колебалось между 22 марта и 25 апреля (пределы празднования Пасхи). В последнее время Н. В. Шляков полагал, что новый год в XI в. у нас начинался с 25 марта. (Журн. Мин. Нар. Просв. 1907 г. Июнь стр. 389). Н. В. Степанов выдвинул новую гипотезу о характере нашего древнелетописного счисления. Он говорит: «Тени наших летописцев давно и настойчиво протестуют против сложившегося мнения о счислении годов в древней Руси с 1 марта; оне с красноречивым молчанием выбрасывают со страниц дошедших до нас памятников ряд дат, наглядно противоречащих сложившемуся у историков взгляду». Этот исследователь, разбираясь в календарно-хронологических факторах наших летописей, пришел к мнению отличному от вышеприведенных. Он полагает, что древнее национально-русское /286/ времясчисление было не солнечное, а лунное и начало года приурочивалось к некоторому моменту (к какой-либо фазе Луны), бывшему в начале фенологической весны. С принятием христианства и началом летописного периода наше времясчисление стало равнодействующей чисто-русского и византийского счета времени, и может быть названо лунно-солнечным, при чем за начало года считалось воскресенье между 1-й и 2-й неделями Великого поста при Пасхе более поздней и Вербное воскресенье при Пасхе более ранней. Ввиду того, что Пасха празднуется в некоторой зависимости от лунных фаз, начало года было близко к полнолунию. Степанов даже думал, что в древнерусском национальном календаре за начало года принималось полнолуние фенологической весны. Свою гипотезу автор строит на целом ряде мест из наших летописей, во многом, действительно, подтверждающих его соображения. Выражения наших летописцев: «настанущу лета мартом месяцем», «в лето 6645 настанущю в 7 марта» были бы совершенно
непонятны, если бы год начинался с 1 марта. Но они понятны, если годы начинались иногда в феврале, иногда в марте, в разные его числа. Иногда у летописцев события, датированные первыми
числами марта, поставлены в конце данного года. Или, наоборот, год начинается описанием событий совершающихся в течение большого промежутка времени и затем встречается дата одного из первых чисел марта — ясно, что год начался в феврале (подробное изложение гипотезы Степанова см. в его работах, перечень которых приведен на стр. 9 нашего исследования об («Астр. Явл. В русск. лет.»). Таким образом, древне-летописный год не имел определенного твердого начала по юлианскому календарю и начало его колебалось по числам марта, февраля и даже апреля. Степанов называет такой стиль circa-мартовским. Правда, некоторые места летописей приведенные им в доказательство, при более внимательном анализе оказались не подтверждающими его гипотезы (см. «Астр. Явл. в русск. лет.» стр. 96, 97 и 130), но тем не менее, в целом, гипотеза заслуживает большого внимания и с некоторыми поправками может быть принята. Во всяком случае, лунный счет по «небесным» месяцам в отличие от «книжных» — юлианскаго календаря, у нас на Руси существовал очень долго, вплоть до Петровских времен (см. «Изв. Р. О. Л. М.» 1915 г. № 4, стр. 153). Кроме того, любопытно обратить внимание на то, что два праздника русского язычества — Масленица и похороны Ярилы несомненно были связаны с лунными фазами. Это — праздники лунного культа в отличие от Коляды и Купалы — праздников, несомненно, солнечного культа. В то время, как последние постоянны для /287/ юлианского календаря и были связаны с зимним и летним солнцестояниями, первые имеют передвижной характер и следуют за пасхальным кругом, что то же — за фазами Луны. Да и сущность праздников Масленицы и Ярилы, по-видимому, соответствовала в язычестве лунному божеству. Обычай печь блины уже в христианской Руси по свидетельству Сахарова в его «Сказаниях русского народа», сопровождался особым ритуалом: «приготовление первой опары содержалось в величайшей тайне от всех домашних и посторонних... опару готовят из снега на дворе, когда взойдет месяц. Здесь они (стряпухи) причитают: «месяц, ты месяц, золотые твои рожки. Выглянь в окошко, подуй на опару»... Праздник похорон Ярилы, по словам Сахарова, происходил в Воронежской губернии три дня — пятница, суббота и воскресенье Всехсвятской недели и состоял в том, что с плачем несли во гробу и хоронили чучело Ярилы. Это празднество и сопровождавшее его гулянье было уничтожено лишь в XVIII в. епископом Тихоном. Трехдневный характер праздника и элемент похорон в нем сильно напоминают подобные же праздники восточных культов, которые с точки зрения астральной мифологии символизируют трехдневную смерть лунного божества в период «молчаливой» Луны — у евреев или «межимесячий» — в древней Руси, когда Луна не видна около фазы новолуния. Всехсвятская неделя в пасхальном цикле всегда очень близка к новолунию.
Кроме circa-мартовского стиля по мнению Степанова у наших летописцев обнаруживается еще другой стиль, названный им ультра-мартовским. Сущность его лежит в другой плоскости и заключается в том, что нумерация годов опережает обычный мартовский стиль на один год. В летописях встречаются целые фрагменты датированные этим стилем, что автор показал очень убедительно. Стиль этот мог возникнуть у наших летописцев при решении ими вопроса, как обозначать русские мартовские годы, переводя их с сентябрьских византийских. В самом деле, летописец приступавший к своей летописи и желавший обозначать годы «по старине», т. е. с марта, а не так. как это «мнилось грекам» — с сентября, должен был стать в тупик, каким номером от С. М. обозначить текущий год? По пасхалистическому календарю идет N-й сентябрьский год, начавшийся уже в истекшем сентябре. Какой номер ему ставить? Номер ли текущего сентябрьского года, или номер грядущего сентябрьского? Так как никаких оснований к какому-либо определенному решению не было, то один поступал так, другой иначе — и в результате получилось — у одного мартовский стиль, а у другого ультра-мартовский. /288/
III
Всем известно, как украинцы и поляки дорожат своими народными названиями месяцев, а последние невзирая даже на счисление по новому стилю, удержали их в своем календаре, но мы русские равнодушно приняли из Византии непонятные для нас названия «Генуарий», «Февруарий», «Септембрий» «Октоврий» и т. д. еще в эпоху начала нашего летописания и постепенно позабыли красивые названия завещанные нам предками. Уже в летописях встречается только одно название ноября груднем. Но в старинных харатейных евангелиях и церковных месяцесловах сохранились и дошли до нас подлинные древнеславянские названия всех 12 месяцев, причем смысл некоторых из этих названий уже был непонятен даже Карамзину, которому понадобилось искать их объяснения. Ниже мы приводим эти названия, сопоставляя их с украинскими и польскими, т. к. между ними много общего, и в дальнейших комментариях привлекаем эти названия как новый и ценный материал для подтверждения гипотезы о характере нашего древнего национального календаря как счисления лунного — по «небесным» месяцам.
Современные названия
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Древнерусские названия
Сухий
Березозо'л
Травень
Изо'к
Че'рвень
За'рев
Рюин
Листопад
Груден
Студен
Про'синец
Сечень
Украинские названия
Березозол
Цветень
Травень
Червец
Липец
Серпень
Вресень
Паздерник
Листопад
Грудень
Сечень
Лютый
Польские названия
Marzec
Kwiecien
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpien
Wrzesien
Pazdziernik
Listopad
Grudzien
Stuczen
Luty
Древнерусские названия мы привели здесь по трем источникам: 1) из «Истории Госуд. Рос.» Карамзина, где он приводит их по харатейному евангелию XII в.; 2) из «Месяцеслова по церковному обиходу XIII в.» в «Истории Русской Церкви» митр. Макария т. III и 3) из «Сказаний русского народа» И. Сахарова, пользовавшегося Святцами XI в., разными харатейными евангелиями и. между прочими, знаменитым Остромировым евангелием XI в. Во всех этих трех /289/ источниках названия совпадают и разница лишь в орфографии. Ударения расставлены нами по Словарю Даля. Украинские и польские названия приведены по Карамзину.
Сухий — название Марта месяца замечательно в метеорологическом отношении, т. к. он считался, по-видимому, самым бедным осадками месяцем. Из Климатологического Атласа Главной Физической Обсерватории видно, что для Москвы и Киева, как и для других станций в районе древней Руси минимум осадков падает на февраль нов. ст. Таким образом, данные метеорологических станций на месяц предваряют древнерусское соответствующее определение. Это может быть объяснено именно тем, что начало года в лунном национально-русском календаре «скользило», по выражению Степанова, по твердому юлианскому календарю и месяц Сухий иногда отодвигался на февраль. У хорват март также назывался Сушец.
Березозол — Карамзин сначала думал, что это название Апреля произошло оттого, что славяне жгли березовую золу для щелока в этом месяце. Но на полях его собственного печатного экземпляра «Истории» находим, однако, другое более правдоподобное объяснение, приписанное самим автором: «Березозол — зол для берез: из них выпускают тогда сок». Всем, действительно известно, сколько больших деревьев портится весною в России для добывания березового сока, употребляемого в качестве питья.
Травень — Май указывает на пору сенокосов.
Изок — смысл названия Июня Изоком совсем был потерян, и лишь Карамзину удалось найти его благодаря одному указанию на древне-русский перевод «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского, где наряду с пернатым царством были упомянуты «изоки». В подлиннике стояло слово tettiz означающее сверчка, цикаду, кузнечика. Таким образом, июнь, звенящий стрекотанием кузнечиков, получил название Изока. Отсюда, по-видимому, происходит русское слово, приводимое в Словаре Даля: изой — веселый, забавный ребенок.
Червень — Июль. Карамзин полагал, что название это могло произойти от красных плодов и ягод. Но если принять во внимание название июня у поляков и украинцев Червецом, то более правдоподобным окажется объяснение Даля в его Словаре: «пора сбора червеца в западных губерниях. Червец — насекомое Coccus — кошениль, дающее краску червец».
Зарев — Август, мог получить название от утренних холодных зорь или от зарниц — молний без грома, на что указывает Карамзин. Даль в своем Словаре указывает другое происхождение /290/ названия от глагола зареветь — начало рева, течки оленей. Если сопоставить с этим польское название Wrzesien и украинское Вресень — названия сентября, то объяснение Даля будет более правильным. Польское Wrzesien от глагола wrzeszczec — кричать. Кроме того, Сахаров указывает на русское народное название сентября — Ревун.
Рюин или Рюен — названия Сентября. Даль тоже производит от глагола рюить — реветь. Карамзин сначала производил это название от глагола рюмить — плакать, указывая на дождливый сезон начинающийся в сентябре («смотреть сентябрем»), но потом, по-видимому, нашел верное объяснение, сопоставив это слово с сербским названием желтника — желтаго деревца Phus cotinus, руем и рюем. Из этого деревца добывается желтая краска и вообще сербы желтое склонны называть подобными же словами, наприм., руино и руево — желтое вино. Наконец, у хорват сентябрь носит название Рувень. Таким образом, желтизна листьев, приобретаемая деревьями в сентябре, могла повести к названию Рюен.
Листопад — название Октября, когда в северной России, действительно, этот процесс уже имеет место. Украинское же и польское тождественные названия относятся к ноябрю, т. к. на юге процесс этот запаздывает сравнительно с севером. Зато для сентября там свое название: Паздерник, Pazdziernik от слова pazdzierze — кострики, получающиеся при обработке пеньки.
Груден — Ноябрь, по словарю Даля получил свое название от свойства дорог, когда бывает колоть, груда. т. е. замерзшие колеи грязи по дороге. В Лаврентьевской летописи под 6605 г. читаем: «поидоша по грудну пути, бе бо тогда месяц груден, рекше ноябрь». В Польше и на Украине Груднем называется Декабрь, т. к. на юге наступление осени запаздывает по сравнению с севером, как и процесс листопада. У чехов же Груднем назывался эмболимический, добавочный 13-й месяц лунного календаря, как это видно из слов Добровского в его «Slovanka» (I, 72): «ve trech letech prebyva mesic pribytny, hruden. to jest trinacteho mesjce nastani». Н. В. Степанов предполагал существование у наших предков тоже вставочного месяца в период непроездных дорог, когда все сидели дома и не видели месяца на небе,— между ноябрем и декабрем, —носившего название Грудня, и этим объяснял нелюбовь русских к 13 числу, т. к. эмболимический месяц несомненно, вносил большую путаницу в наше народное летосчисление, заставляя начало года «скользить» по юлианскому календарю.
Студен — Декабрь, отмечает собою наиболее холодное время года. Из Климатологического Атласа Главн. Физ. Обсерв. /291/ видно, что на всех станциях в районе древней Руси минимум температуры отмечается в декабре нов. ст.
Просинец — Январь, по объяснению Добровского в его «Slovanka», происходит от глагола просить. Карамзин не без иронии замечает по поводу этого объяснения: «он не вспомнил о просе, коим издревле питались славяне — это было бы вероятней», и предлагает свое объяснение — от синевы неба. У Даля в Словаре также находим: «просинь—с примесью синевы». По-видимому, наши предки первый месяц после наибольшей в году облачности, когда впервые начинает проглядывать небесная лазурь, называли Просинцем. Из Климатологич. Атласа Главн. Физ. Обсерв. видно, что для Киева и Москвы максимум облачности падает на ноябрь нов. ст. Здесь, как и в отношении марта месяца, данные метеорологических станций предваряют на месяц действительность, что может быть объяснено неустойчивостью лунного календаря по сравнению с солнечным, вследствие чего месяц Сухий иногда отодвигался на февраль, а Просинец на декабрь. Такое смещение было в особенности значительным накануне эмболимическаго года. Это подтверждается также тем, что у чехов и хорват декабрь носит название Просинца, а у хорват и сербов ноябрь называется Студень.
Сечень — Февраль, назван так вероятно потому, что отсекал собою старое лето от нового в ту эпоху, когда год начинался о весны. Подтверждением этому может служить польское название stuczen от stykacsie — соприкасаться, примыкать, граничить, но у поляков это название соответствует январю, что уже не имеет смысла, если только не допустить, что оно отнесено на январь уже во время перехода с мартовскаго на январьский стиль. У болгар оба последних месяца в мартовском году называются: Големи Сечко (январь) и Малък Сечко (февраль), т. е. большой и малый сечень.
Таким образом, смысл древне-русских названий месяцев показывает, что метеорологические особенности некоторых из них, послужившие поводом к соответствующим названиям, будут совпадать с действительностью только при допущении смещения месяцев по юлианскому календарю вперед, что может быть объяснено только тем, что в древности эти названия относились к лунным месяцам, скользившим по твердому юлианскому календарю.
Оригинал:http://hbar.phys.msu.ru/gorm/ahist/Sv17_283.htm
|